ГАЛИНА Маковская
СТИЛЬ ЖИЗНИ / 15 ФЕВРАЛЯ 2025
«О том, что дорого и важно»
Лилиан Наврозашвили:
Фото: Портрет Лилиан Наврозашвили, Фотограф — Елена Лучшева
“
15 февраля (2 февраля по старому стилю) 1906 года родился Муса Джалиль, советский татарский поэт, журналист, военный корреспондент, патриот-подпольщик, который был арестован гестапо, заключён в застенки Моабита, а позже, пройдя через пытки, казнен гитлеровцами в берлинской тюрьме Плётцензее. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Накануне этой памятной даты «Эксперт Северо-Запад» встретился и побеседовал с внучкой прославленного поэта и героя, петербургской актрисой театра и кино Лилиан Наврозашвили.
Накануне этой памятной даты «Эксперт Северо-Запад» встретился и побеседовал с внучкой прославленного поэта и героя, петербургской актрисой театра и кино Лилиан Наврозашвили.
Муса Джалиль ещё до Великой Отечественной войны переводил на татарский язык стихи Пушкина, Некрасова, Маяковского, Шевченко и других великих стихотворцев. После того, как стала известна правда о мужественной жизни и трагической гибели автора «Моабитской тетради», Константин Симонов, являющийся одним из самых влиятельных советских писателей, приложил немало усилий для вызволения из небытия его литературного имени.
Переводы стихов Джалиля на русский язык были сделаны лучшими из поэтов СССР — Анной Ахматовой, Эдуардом Багрицким, Самуилом Маршаком, Арсением Тарковским, Павлом Антокольским. Пространство словесности огромной страны, вмещающей множество этносов, было едино. Общеизвестно, что взаимодействие самобытных культур сближает народы, расширяя языковые возможности и читательскую аудиторию. Вся мировая литература стала убедительным подтверждением того, что люди разных национальностей имеют схожие мысли, чувства, желания, мечты, радости и горести, а потому способны понять друг друга.
— Хочется спросить актрису, чья творческая судьба успешно сложилась в театре и кинематографе России, женщину, которая носит грузинскую фамилию, и является внучкой выдающегося татарского поэта, — скажите, что сегодня можно противопоставить тем, кто использует национальные различия для возбуждения вражды и ненависти. Как уберечь от этого общество и чем защищаться каждому из нас?
— Наша семья глубоко признательна всем талантливым мастерам слова, которых вы упомянули, за их творческий труд. И то, что было сделано Константином Симоновым, конечно, очень дорого для нас. Моей маме (Люции Мусаевне Джалиловой, старшей дочери Мусы Джалиля — ред.) удалось лично сказать ему слова искренней благодарности. Относительно национальных различий могу сказать, что за свою жизнь никогда не замечала негативного отношения к себе по этому признаку. Национальность не становилась проблемой.
Актерской профессии я обучалась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) на курсе у замечательного артиста и педагога Андрея Юрьевича Толубеева, который служил в БДТ. Поэтому у меня много связано с этим театром. Сейчас он носит имя Георгия Александровича Товстоногова, мастера, который много лет им руководил, создал потрясающую труппу и репертуар, прославивший театральное искусство нашей страны во всем мире. Хорошо известно, что по национальности он был грузин. И это не являлось препятствием для создания гениальных спектаклей по произведениям русских классиков.
Могу рассказать и курьёзное. Вторым мастером на моём курсе был Тимур Чхеидзе, который после ухода из жизни Товстоногова занимал пост главного режиссера БДТ. Как нетрудно догадаться, он тоже грузин. Так вот, когда Чхеидзе ставил спектакль «Солнечная ночь» по роману Нодара Думбадзе, он меня, грузинку по отцу, в эту постановку не взял. Я, конечно, очень расстроилась, но работа есть работа. Мы с ним потом переговорили и он мне доходчиво объяснил все причины. Так что, не сработало на этот раз землячество! Не все решают национальные связи!
“
Я не просто так вспомнила об этом. Это пример того, что в искусстве этническая принадлежность — это не главное. И в нём нет национальных границ, за которые не пускают
Если ты читаешь роман, пьесу, любой текст, который тебя действительно трогает, то место рождения его автора отступает на второй план. Ты видишь в литературном герое прежде всего человека, с его радостью и любовью, с его болью и трагедией, которые отзываются в сердце. Все люди на земле хотят примерно одного и того же — они ищут понимания, счастья, хотят любить и быть любимыми. Об этом и пишут книги на всех языках мира. А музыка и танец понятны всем и без слов! Надо быть внутренне открытыми, учиться друг у друга лучшему, надо подниматься над любыми предрассудками, духовно расти. Чем примитивнее человек, тем легче им манипулировать.
Мое детство прошло в Казани и никакой неприязни между русскими, грузинами, татарами и другими живущими там нациями я не могу припомнить. То, что происходит на планете сейчас, очень ранит. Больно видеть, как рвутся человеческие связи, как все это пытаются отменить, перечеркнуть, переписать историю в угоду тем, кто полон слепой злобы и ненависти. Тягостно узнавать об опрокинутых памятниках, запрещенных концертах и спектаклях классиков русской музыки и литературы.
И это происходит в, казалось бы, цивилизованных странах! Что творится с людьми? Настоящий «пир во время чумы». Мы читаем и ценим Гете и Шекспира, слушаем Брамса и Моцарта, и хочется верить, что никогда не дойдем до того, чтобы запретить их исполнять только потому, что они не здесь родились.
— Что в творческом наследии деда-поэта вам особенно близко? Есть ли строчки, которые всплывают из памяти чаще всего?
— Конечно. И они мне всегда помогали. Знаете, когда я уезжала из Казани, чтобы поступить в петербургский театральный вуз, мама, собирая вещи, положила мне с собой и книгу со стихами моего деда. Меня приняли без официального зачисления вольнослушателем, поскольку мест на курсе уже не оказалось. Но я всё равно была счастлива, потому что жила в Санкт-Петербурге, городе мечты. Меня очаровал этот строгий и прекрасный город, которому посвящено столько стихов и песен. И больше всего поразили люди, которые в нём живут, — интеллигентные, сдержанные, содержательные и великодушные. Во всяком случае мне встречались именно такие. Мне вообще очень везло на людей. И они помогали совершенно бескорыстно. Их поддержка в первые годы моей петербургской жизни не была лишней, поскольку её никак нельзя назвать легкой.
Из-за хронического отсутствия денег даже на транспорт иногородней студентке приходилось ежедневно шагать пешком от метро «Василеостровская» до улицы Опочинина, где находилось театральное общежитие, в котором я обитала нелегально. Меню также оставляло желать лучшего. Обед в столовой на Моховой улице состоял из пары кусков хлеба и бульонного кубика, разведенного в кипятке. Выручала подработка уборщицей в театральной библиотеке.
Мама старалась мне помогать по мере сил, но мы всегда жили очень скромно и ей самой было трудно — она ухаживала за моей больной бабушкой. Понимая это, старалась обходиться самостоятельно. Справлялась. Но бывали и дни настоящего отчаяния. Вот тогда меня поддерживали полные любви и мужества строчки деда, написанные им в застенках Моабита. Помня о том, через что ему пришлось пройти, я сознавала, что просто не имею права падать духом. Все эти бытовые лишения ничто по сравнению с тем, что он вынес и не сломался, зная, что его ждет смертная казнь.
Не преклоню колен, палач, перед тобою,
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей.
Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.
Увы, не тысячу, а только сто в сраженье
Я уничтожить смог подобных палачей.
За это, возвратясь, я попрошу прощенья,
Колена преклонив, у родины моей.
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей.
Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.
Увы, не тысячу, а только сто в сраженье
Я уничтожить смог подобных палачей.
За это, возвратясь, я попрошу прощенья,
Колена преклонив, у родины моей.
Позже я прочту эти строки у памятника деду, который возведут в сквере на Васильевском острове. Каждый год 15 февраля, в день его рождения, и 25 августа, в день казни, я прихожу туда с цветами. А 9 мая, когда отмечается самый главный для нашей страны праздник Победы, цветов у памятника становится больше — мы приносим их всей семьей. Так будет всегда и ничто этого не изменит.
В детстве мне довелось встретиться с соратником моего деда Рушатом Хисамутдиновым, бывшим с ним в одном из концлагерей. Он участвовал в подпольной работе, которая сорвала планы гитлеровцев по формированию национальных батальонов на службе рейха. Рушат абый (на татарском — дядя — Ред.) подарил мне книгу «Калевала» с напутственными словами, которые и по сей день согревают душу. Она всегда у меня под рукой. Получилось так, что сейчас я часто приезжаю именно в те места Карелии, где происходили события этого эпоса. Там пришло понимание, что случайностей нет — всё взаимосвязано.
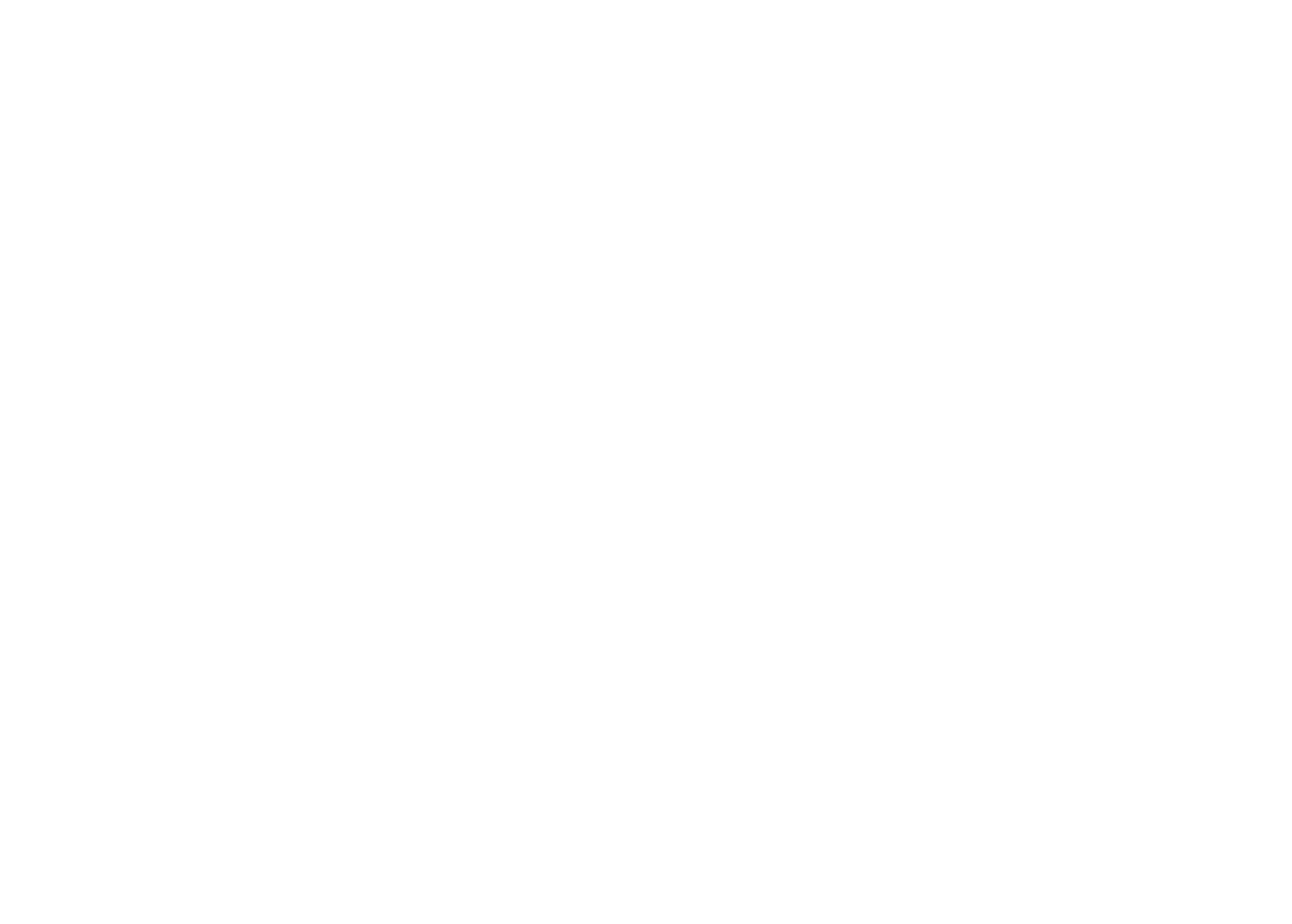
Лилиан Наврозашвили у памятника Мусе Джалилю (скульпторы — Я. Нейман, А. Зиякаев), который был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 года. Фото — «Эксперт Северо-Запад».
Стихи деда тоже всегда где-то неподалёку. Я приняла близко к сердцу его поэму «Джим», в которой нацисты отобрали у девочки Эммы сначала отца, а потом и её лучшего друга — любимую чернокожую куклу, потому что у детей не должно быть таких игрушек. В этом произведении заключены и судьба моей мамы, и моя собственная.
У него есть трепетное, полное щемящей любви стихотворение «Сон ребенка», написанное в Моабитской тюрьме, в котором он описывает, как мать бережно оберегает ночной покой своего маленького дитя. Я посещала и Волхов, где дед попал в окружение, был ранен и пленен. Он очень хотел этого избежать. Об этом тоже написан стих, рассказывающий о том, как его подвёл «друг-пистолет». Я ходила по этой земле и повторяла строки баллады Мусы Джалиля «Соловей и родник» о дружбе и самопожертвовании во имя мира и торжества жизни.
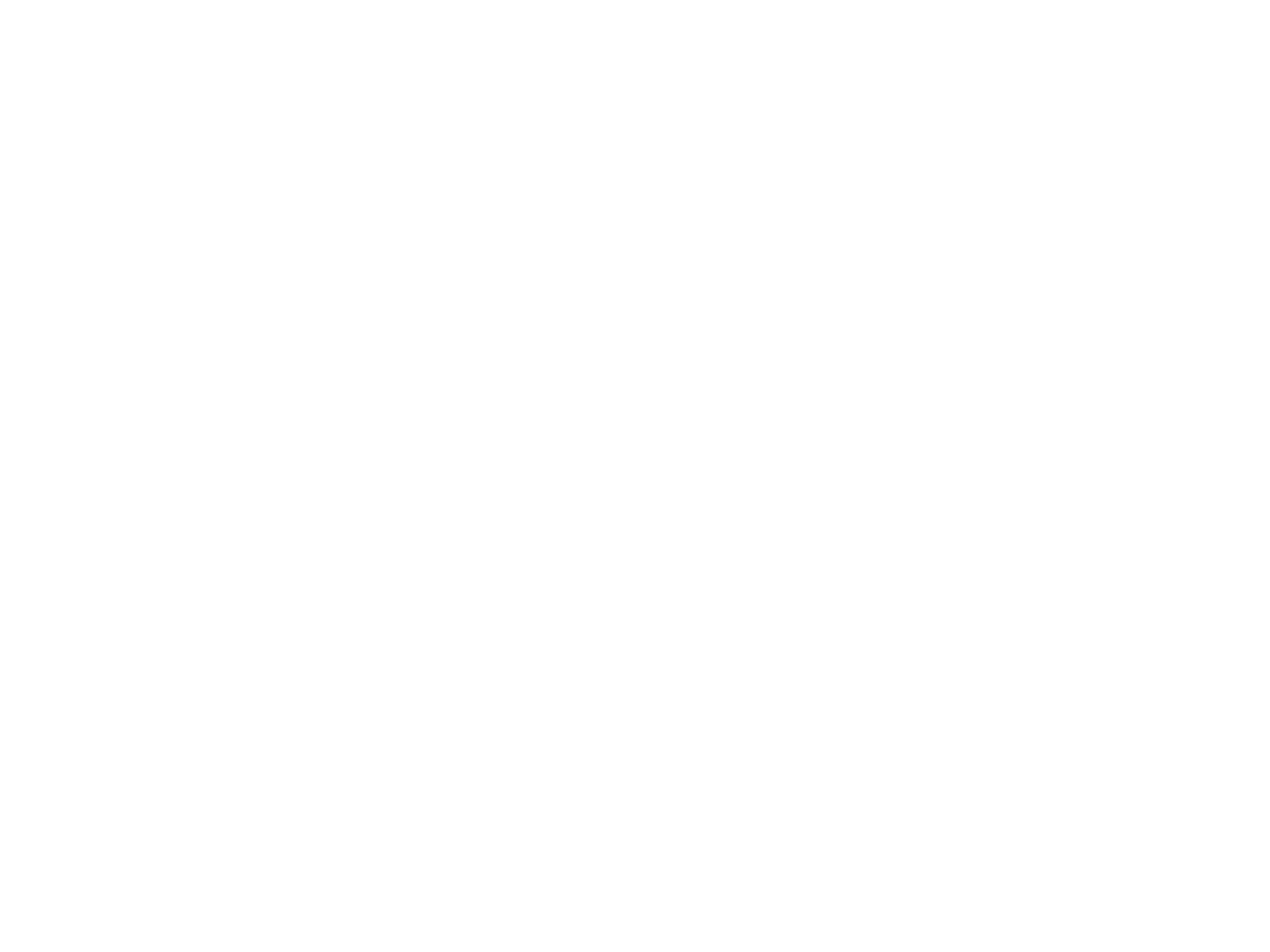
Фрагмент памятника Мусе Джалилю (скульпторы — Я. Нейман, А. Зиякаев), который был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 года. Фото — «Эксперт Северо-Запад»
— Жизнь всегда имеет продолжение. Расскажите, пожалуйста, как она сложилась у вас.
— Счастливо. Исполнилось многие заветные мечты. Как пела великая Эдит Пиаф, «не жалею ни о чём». И всем благодарна. Мне несказанно везло. С шести лет я училась в музыкальной школе. Моя мама преподавала историю кино в Казанском государственном институте искусств и культуры и вела кинолекторий. У меня была возможность вместе с ее студентами смотреть мировые шедевры кинематографа и открывать для себя этот удивительный мир синема.
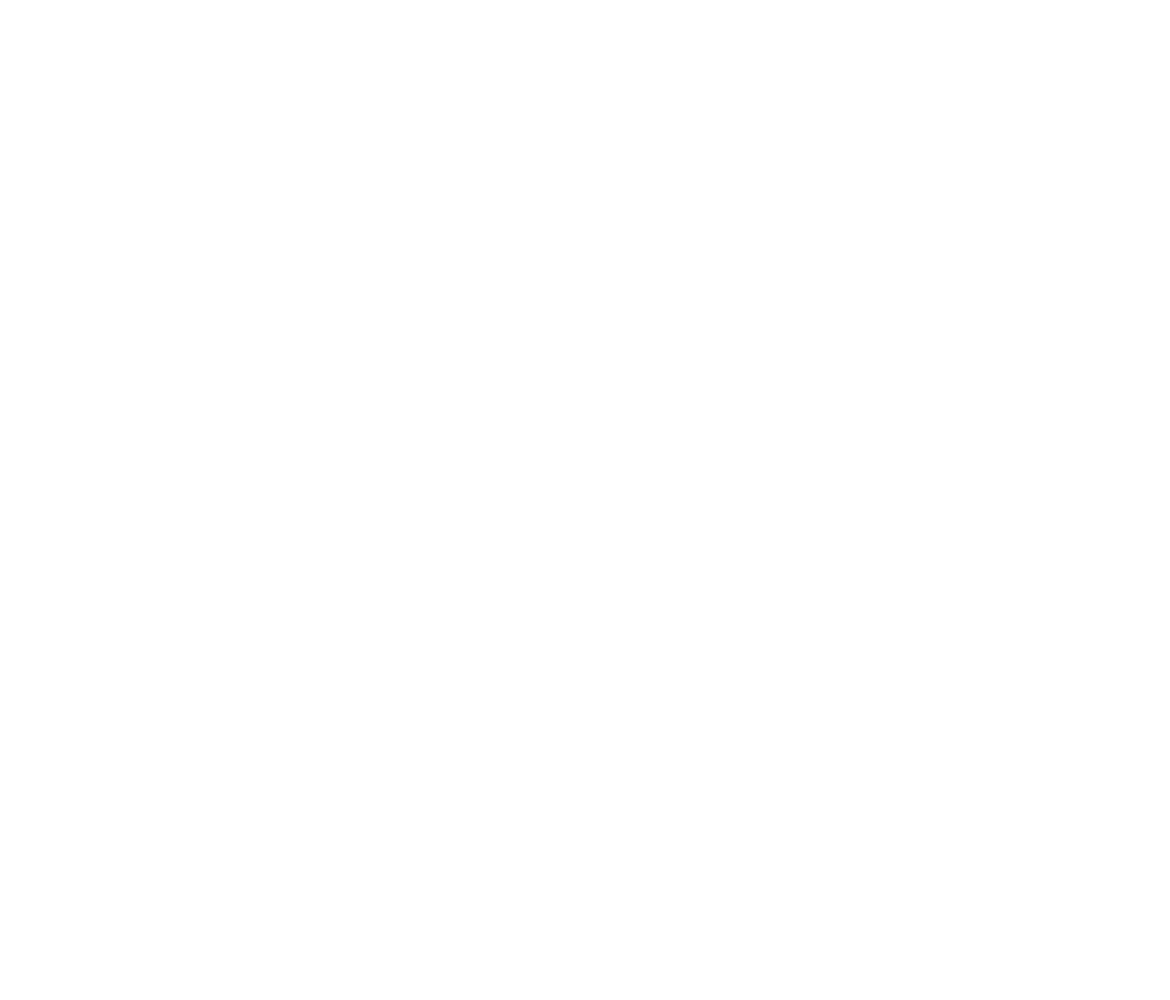
Спектакль «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева. В роли Лауры — Лилиан Наврозашвили. Фотограф — Елена Лучшева
В 14 лет я впервые увидела картину испанского режиссера Карлоса Сауры «Кармен». Волшебство фламенко, танцевальные репетиции, поиск главной героини и трагическая развязка, вся эта пронизанная ритмом и мелодиями история на экране поразила меня. И потом были занятия в коллективе эстрадного танца, в студии пантомимы и клоунады, училище в родной Казани, петербургская академия, работа в театре. До сих пор музыка и хореография — это две стихии, которые меня больше всего волнуют и вдохновляют. Грезила сыграть Кармен, но, увы, не довелось. Но всё, что я берегла в себе для этой эксцентричной роли, воплотилось в испанке Лауре из спектакля «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, который пополнил репертуар Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.
ТЮЗу я отдала 24 года своей жизни. Пришла в него сразу после получения диплома. С огромной любовью и радостью вспоминаю первые шаги на этих подмостках. Конечно, того легендарного театра с блистательной труппой, который был создан Зиновием Яковлевичем Корогодским, я уже не застала. Из ТЮЗа ушли Ирина Соколова, Александр Хочинский и Антонина Шуранова, что, безусловно, было для него огромной потерей. Я слышала с каким трепетом говорили о том времени Наталья Леонидовна Боровкова и ныне покойная Лиана Дмитриевна Жвания, с которыми мы партнерствовали в спектакле «Тартюф» Мольера. Актеры нуждаются в идейном руководителе, в профессиональном и умном режиссере, а когда его нет — это беда для любого театра.
Нужно признать, что Андрей Дмитриевич Андреев, главный режиссер и педагог, с чьими учениками я бок о бок жила и работала почти четверть века, тоже немало сделал для ТЮЗа. При нём появились такие высокохудожественные постановки для детей и юношества, как «Ундина», «Неделя, полная суббот», «Рони, дочь разбойника» и «Горе от ума». Он не сюсюкал с подрастающим поколением, говорил с ним серьёзно и честно. Сейчас я не вижу спектаклей такого уровня. Жаль, что этого прекрасного режиссёра недооценивают.
Мне есть за что благодарить стены этого театра, в которых было столько пережито и сыграно. Сейчас уже нет на свете ни Николая Николаевича Иванова, ни Игоря Георгиевича Шибанова, двух уникальных и известных актеров старой школы, которые так тепло меня приняли и неоднократно были партнерами в разных спектаклях. Это очень ценно, когда рядом такие большие мастера и ты, придя в театр, продолжаешь у них учиться профессии. Но вот они уходят, а вместе с ними целая эпоха.
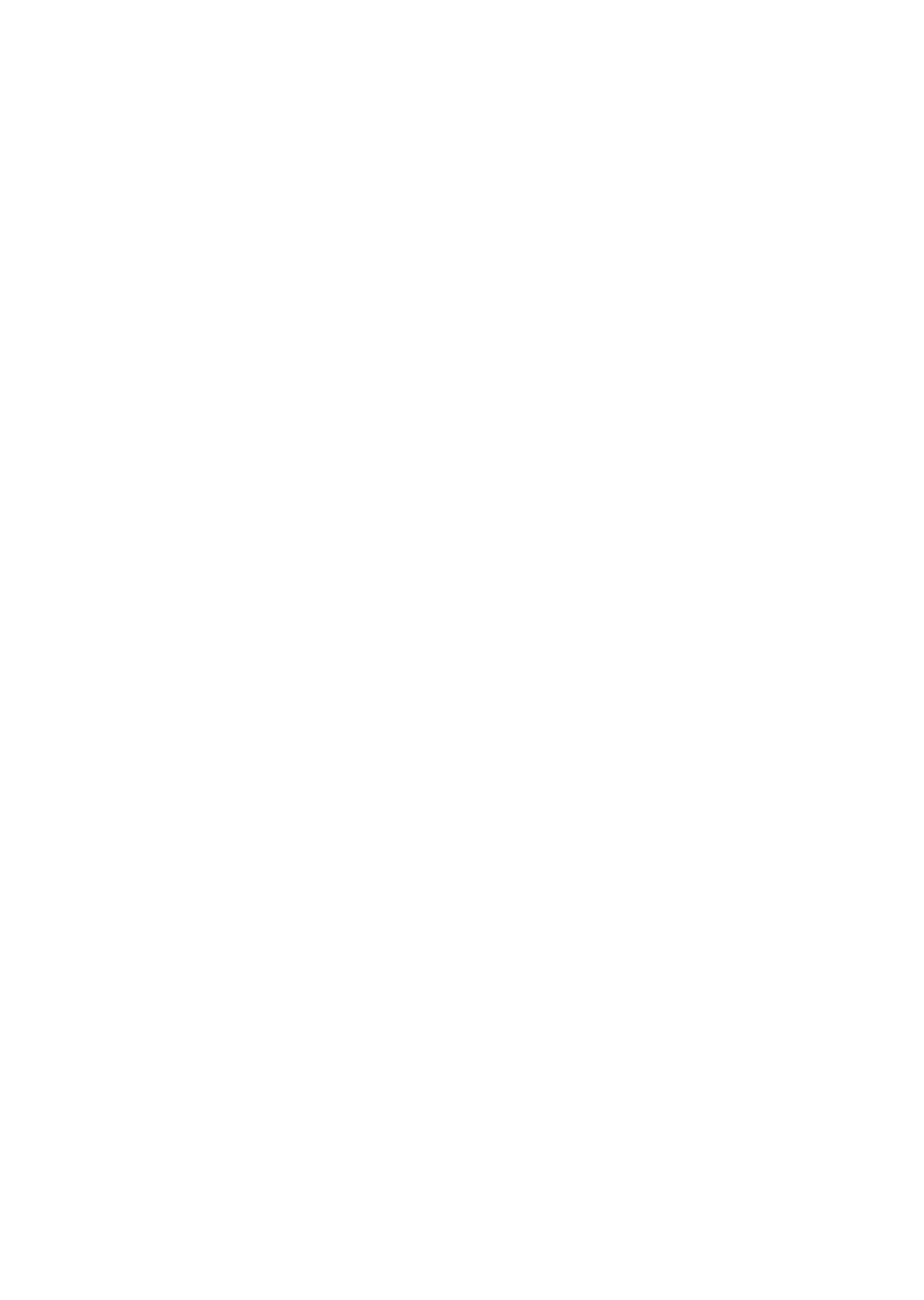
Спектакль «Покрывало Пьеретты» А. Шницлера. Режиссёр — Роман Мархолиа. В роли Пьеретты — Лилиан Наврозашвили. Фото из личного архива актрисы.
Оглядываясь, я с удовольствием вспоминаю работу над независимым сценическим проектом под названием «Покрывало Пьеретты», который мы делали с моим любимым педагогом Романом Михайловичем Мархолиа. Он поверил в свою ученицу и создавал со мной роль Пьеретты в пантомиме Артура Шницлера. В 1913 году её исполнительницей в постановке Александра Таирова была гениальная Алиса Коонен. Этот спектакль мы с Дмитрием Мироном в роли Пьеро играли на разных театральных фестивалях. Уникальный материал и интереснейший актерский опыт.
На сегодняшний день я не служу в репертуарном театре. Как говорится, ушла в свободное плавание. Мои сыновья, муж и мама — вот мир, которым я дорожу и стараюсь сделать его лучше, добрей и содержательней. Во многом мой уход из театра был продиктован желанием больше времени проводить с семьей. Душевная работа — это тоже труд. Нужно учиться слышать друг друга, уважать и ценить. Всё это приходит не сразу, но именно в этом секрет счастья и залог будущего.
На сегодняшний день я не служу в репертуарном театре. Как говорится, ушла в свободное плавание. Мои сыновья, муж и мама — вот мир, которым я дорожу и стараюсь сделать его лучше, добрей и содержательней. Во многом мой уход из театра был продиктован желанием больше времени проводить с семьей. Душевная работа — это тоже труд. Нужно учиться слышать друг друга, уважать и ценить. Всё это приходит не сразу, но именно в этом секрет счастья и залог будущего.
Вы — поющая актриса. Недавно в вашем репертуаре появился музыкальный спектакль «Неужели это мне одной», который посвящен творчеству известной ленинградской певицы Лидии Клемент с проникновенным сопрано и трагичной судьбой. Её звезда засияла на эстрадном небосклоне нашей страны в начале 60-х годов, но слишком рано угасла. Она успела исполнить не так уж много песен. Прошло более полувека, но у «Соловья ЛИСИ», как называли Клемент в вузе, где начиналась ее певческая карьера, до сих пор немало поклонников. Сейчас появилось огромное количество новой музыки. Разумеется, для молодой аудитории исполнители того времени не представляют особого интереса. Для них это — ретро, «бабушкино старьё», «нафталин».
Но нельзя не обратить внимание на то, что профессиональные музыканты и вокалисты всё чаще делают кавер-версии тех подзабытых песен. Выясняется, что преобладающие в сегодняшней музыке ритм и рефрен не могут заменить запоминающуюся с первого раза мелодию и отточенный текст. И если такие песни возвращаются, значит в обществе существует на это запрос. Они только кажутся простыми, но исполнять их довольно сложно. Для этого кроме голоса нужно иметь сердце, душу.
— Расскажите, пожалуйста, о героине вашего спектакля и о работе над ним.
— Меня воспитал репертуарный театр, где я приобрела опыт творческих работ и открытий. Покинув его, не ждала никаких предложений, решив делать только то, что будет интересно и важно самой. Во время постановки в ТЮЗе мюзикла «Лёнька Пантелеев» произошло тесное сотрудничество с замечательным музыкантом Игорем Ковчеговым, в котором я обрела друга и единомышленника. Мы договорились о совместной работе и при поиске подходящего материала обратили внимание на песню, исполнительница которой нас просто очаровала своей необычной для советской эстрады 60-х годов манерой пения. Это была Лидия Клемент. Мы прослушали весь её репертуар, узнали историю этой яркой кометы. В 26 лет на взлете своей популярности она ушла из жизни. Как так?
Собрались с музыкантами, продумали канву сценической истории и приступили к репетициям. Мы считали важным сохранить дух той эпохи, поэтому сознательно не делали современных аранжировок, стараясь сохранить то, что было заложено в песни их авторами. И вот так родился наш спектакль-концерт «Неужели это мне одной». Над ним трудилась замечательная команда! Музыканты — Алексей Блохин (клавиши), Алексей Тополов (гитара) и Игорь Ковчегов (саксофон). Световую партитуру создавала Арина Пшеничная, видеорядом занималась Лара Митина, а событийные постеры придумала Надежда Бакина. Я написала дочери Клемент, Наталье Шафрановой, которая много лет живет в Америке. Она обрадовалась появлению этого музыкального проекта, посвященного её маме, и осталась довольна, посмотрев его видеозапись.
25 июня 2023 года состоялась премьера, после которой мы стали получать первые благожелательные отзывы от наших зрителей. Конечно, в первую очередь это были люди того поколения, те, кто слушал Лидию Клемент в юности и ценит до сих пор. Все говорили, что они словно вернулись во времена, когда наш город называли Ленинградом, когда билеты в театр спрашивали у метро, когда молодежь держала в руках не гаджеты, а книги, когда телевидение показывало мало каналов, но много порядочных и одаренных людей, настоящих талантов. Но нам было особенно удивительно, что этот спектакль пришелся по душе и молодым. Как будто им дали возможность открыть старинный сундук с пожелтевшими письмами и фотографиями. Они совершили своего рода путешествие в другую реальность, в которой их бабушки ещё юны, полны мечтаний и сил, бегают на свидания и танцы.
Нам довелось жить в «интересные времена». В сегодняшнем существовании немало противоречивого, трудного для понимания. Не у каждого находятся силы для того, чтобы справится с тем мощным и не всегда правдивым потоком информации, в котором все мы оказались, с новыми угрозами и проблемами стремительно меняющегося мира.
Казалось бы, не до развлечений. Но наблюдается что-то вроде театрального бума — аншлаги на новых концертных программах и премьерах спектаклей. Публику не останавливают даже выросшие цены на билеты, как, впрочем, и на всё остальное.
— Чего хотят люди, занимающие места в партере и на галерке, чего они ищут, что хотят увидеть на сцене? Какой нынче зритель?
— Да, цены на билеты в некоторые театры действительно неподъёмные. Отдать 8000 тысяч рублей и больше за просмотр одной театральной постановки может далеко не каждый. Опера и балет — это отдельный разговор. Космические суммы. Да ещё и билетов нет. Аншлаги и прибыли хороши для театров, но есть ли профит обществу, от того, что для немалой его части культура стала просто не по карману.
“
Настораживает, что по-настоящему любящие театр зрители, которые не в состоянии заплатить такую цену, оказываются за бортом
Зрители — они разные. Есть мыслящие, начитанные, требовательные. Они не смотрят всё подряд. Даже, если это было широко разрекламировано. Им интересны конкретные актёры, режиссерские решения, оригинальное прочтение литературного материала. Но есть и те, кто плагиат принимает за новаторство, а презрение к традиции, скандальность и скабрезность — за гениальность. Особенно, если об этом зрелище кричат из всех утюгов. Увы, на дворе время «голых королей». Многие из платежеспособных идут на модное и престижное, а для малоимущих театр бывает нужнее хлеба — им требуется та самая жизнь духа, о которой говорил Станиславский, свет, правда, утешение, ответы на вопросы бытия.
— В телеинтервью, которое известный театральный критик Наталья Крымова брала у неповторимой Фаины Георгиевны Раневской, актриса сказала, что, переходя из одного театра в другой, она долго искала «святое искусство», но нашла его только в Третьяковской галерее. У нас, конечно, ближе Эрмитаж, Русский музей. Поделитесь, пожалуйста, где вы сегодня находите красоту, вдохновение, жизненную энергию? Удаётся ли «перезарядить батарейки», настроиться на позитив? Может быть, это просто пейзаж, книга, фильм или работа коллег по театральному цеху?
— И Эрмитаж, и Русский музей, и Севкабель Порт, где проходила потрясающая выставка, посвященная кинорежиссёру Алексею Балабанову. Я и моя мама очень любим импрессионистов и безумно рады, что в Главном штабе Эрмитажа есть прекрасная коллекция этих художников — Писсарро, Моне, Гоген, Ренуар, Пикассо, Дега. Бездна красоты и изящества в этих полотнах!
В Русском музее недавно любовались картинами Брюллова и Васнецова. Я не искусствовед и не могу анализировать свои впечатления, но рядом с этими шедеврами меня переполняют восхищение, восторг. А ещё радует, что люди, приехавшие из других стран, готовы стоять в очереди, чтобы увидеть произведения русских художников. Как и Раневская, приблизились к «святому искусству» в Третьяковской галерее — побывали в Москве на выставке передвижников. Множество удивительных открытий, столько неизвестных ранее картин. Живопись, музыка, литература — вот чистые родники, из которых можно почерпнуть энергию.
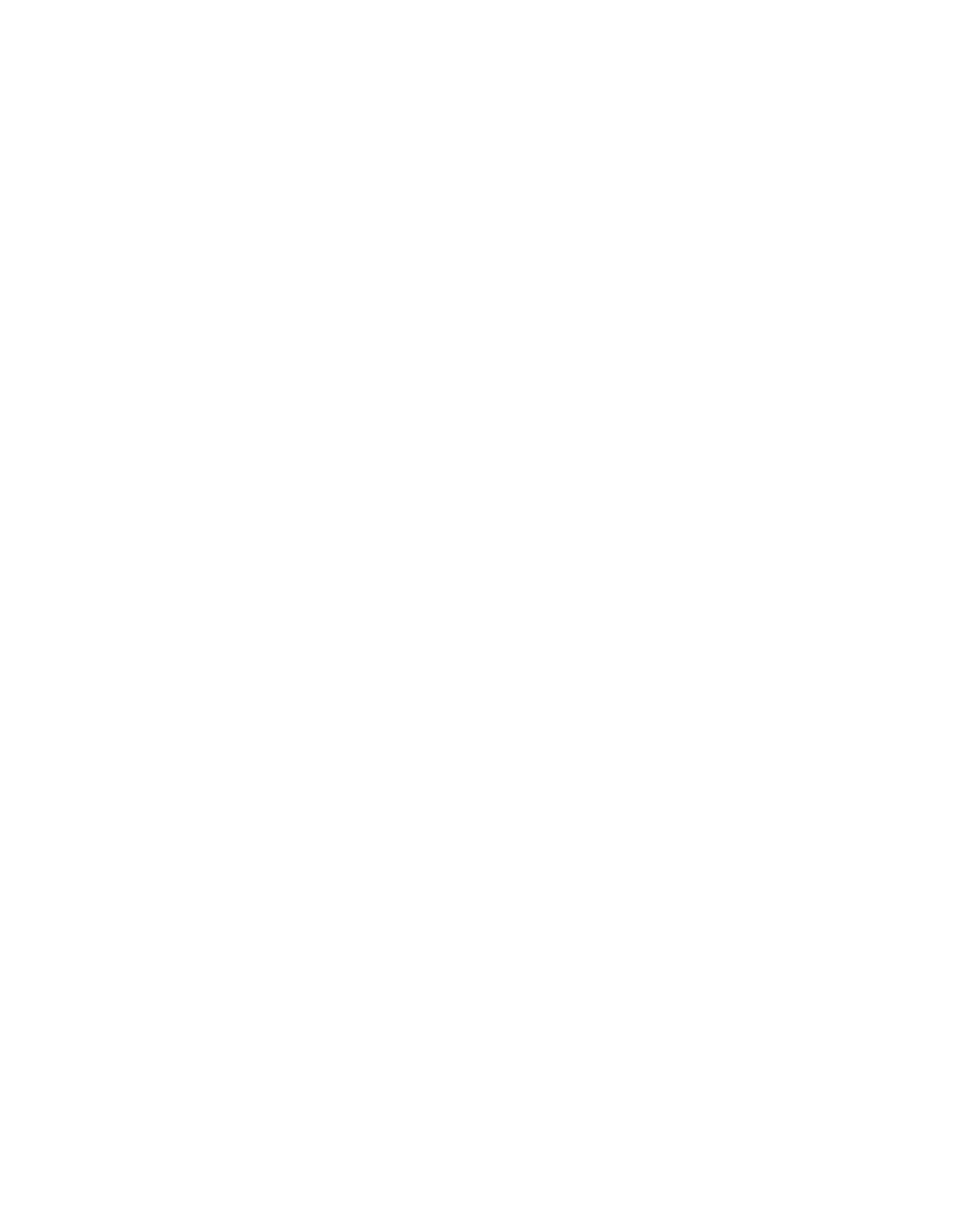
Портрет Лилиан Наврозашвили. Фотограф — Елена Лучшева
Позитив дают и путешествия. В этом году отправились в деревню Мандроги в Карелии, куда из Архангельской и Вологодской областей были привезены и бережно собраны избы XIX века. Побывав там на экскурсии, можно не только познакомиться с воссозданным бытом того времени, но и попасть на мастер-классы ремесел, которыми владели жители больше века назад. От всего увиденного в этой деревне мой младший сын и наши друзья получили массу положительных эмоций. Как будто прокатились на машине времени. Но даже необязательно куда-то уезжать. Мы иногда забываем, в каком прекрасном городе живём. Здесь нетрудно побывать на музыкально-поэтическом вечере или попасть на симфонический концерт. Мне нравится атмосфера квартирников, где собираются интересные и творческие люди. В Санкт-Петербурге красота и великолепие на каждом шагу. Ещё остались преданные делу и высокоэрудированные экскурсоводы, которые могут показать в городе удивительные и значимые уголки, мимо которых мы проходим, ничего не зная о них. Совсем не обязательно выбирать сложный маршрут. Среди всей нашей суеты достаточно лишь ненадолго остановиться, замереть на месте и просто смотреть на «Невы державное теченье, береговой её гранит». Величие этого города, который устоял во всех исторических смутах, не потерял веры, победил голод и смерть, придаёт сил. Петербург-Петроград-Ленинград обязывет не совершать низостей, не опускать рук, быть выше, чище и человечней.
— Помимо театра вы много работали в кино, но, думается, что сценические подмостки представляют для вас большую ценность. Это верно?
— Всё так. Я предана театру, где удалось сыграть такие дорогие для меня роли, как Марианна в «Тартюфе», Регана в «Короле Лире», Анжела в мюзикле «Лёнька Пантелеев», мать Меннерса в мюзикле «Алые паруса» и Миссис Амни в мюзикле «Кентервильское привидение». В спектакле по готическо-юмористической новелле Оскара Уайльда исполнилась ещё одна моя мечта — встретиться на сцене с замечательным артистом, уникальным певцом Альбертом Асадуллиным, который исполнял роль ужасного и несчастного призрака сэра Симона де Кентервиля.
Разумеется, театр — это очень живое дело, где результат твоей работы зависит не только от драматургического материала, труда режиссёра, художника, но и от зрителя. Между рампой и партером натянуты тысячи невидимых проводов, по которым в обе стороны бегут искры и разряды мыслей и чувств. В кино другая специфика работы, но это тоже интересная практика, которая позволяет раскрыться природе актера, обнаружить в себе иные способы правдивого существования. Кроме того, это возможность увидеть живописные места и освоить что-то необычное для себя. Например, во время съёмок фильма режиссёра Николая Лебедева «Волкодав», в котором мне доверили роль воительницы Эртан, мы на три месяца отправились в Словакию. До этого был двухмесячный подготовительный период, во время которого я научилась ездить на лошади, владеть мечом. Пришлось побегать по крышам в картине с детективным сюжетом режиссёра Андрея Джунковского «За пределами закона», съёмки которой я вспоминаю с большой теплотой и считаю, что эта работа в кино была удачной.
Тот же режиссёр позже пригласил меня в фильм «Виктория», снимавшийся в Бахчисарае. А одним из последних и дорогих сердцу проектов был дебют режиссёра Кейт Суринской из Лос-Анджелеса под названием «Параллели». Она перенесла на экран автобиографическую историю, поручив мне роль мамы героини. Наше творческое сотрудничество постепенно переросло в дружбу. И это тоже одна из неоценимых сторон нашего артистического ремесла — новые друзья, истории и образы. Роскошь общения и взаимообмен человеческим и профессиональным опытом. Однообразию места нет.
— Наш журнал называется «Эксперт». Это слово происходит от латинского expertus — испытанный, сведущий, знающий по опыту. Скажите, что по-настоящему важного вы успели узнать о жизни? Что считаете в ней самым главным?
— Мир так быстро меняется. Я все чаще вспоминаю фразу «безвременье приходит» из шекспировского «Короля Лира». На репетициях классической пьесы не все заложенное в ней было для меня очевидным, но по прошествии лет я поняла, что хотел выразить Шекспир в этих двух словах. Когда происходит подмена ценностей, когда доброта считается слабостью, а наглость — храбростью, и многие начинают верить, что это непреложные истины.
“
Думается, что очень важно сохранить себя. Не отказываться от того, чему учили родные, педагоги в школе и вузе — добру, уму-разуму, честности, серьёзному отношению к делу, которым занимаешься. Они хотели вырастить из нас личностей
Я вовек не забуду преподавателя истории зарубежного театра, интеллигентнейшего человека Льва Иосифовича Гительмана, который никому из обучавшихся на факультете актерского искусства и режиссуры ни разу не поставил двойку по своему предмету и всегда снимал шляпу, здороваясь со студентами. Надо отметить, что с будущими театроведами он не был настолько галантен. Это поднимало нас в собственных глазах, прививало достоинство. Его лекции, содержащие уйму информации, которую не сыщешь в учебниках, мы не пропускали. Гительман искренне уважал нас, любил. И мы платили ему тем же.
Я испытываю бесконечную благодарность своей маме, которой сейчас 88 лет, за ту ласку и нежность, которые она дарила мне с малых лет. Её любовь оградила от многих бед и продолжает защищать сегодня. Мы не только мама и дочка, но ещё и большие друзья, единомышленники. Своих сыновей я тоже стараюсь растить в атмосфере доверия, уважения и любви. В какой-то момент каждый задумывается о своем предназначении. Наверное, самой главной ролью для меня стало материнство.
Значение родителей нельзя недооценивать — они проводники ребенка в этот непростой мир. Необходимо направить его туда, где интересно и содержательно. Нужно помочь ему собрать духовный багаж, который поможет в жизни. Это — литература, музыка, живопись, театр, кино. Не суррогаты, а настоящее искусство. Я контролирую время пребывания своих детей в интернете, чтобы это было во благо, а не во вред. В их воспитании помогает мой любимый человек, мой муж, мой герой. Мы дополняем друг друга, всячески поддерживаем во всех стремлениях и начинаниях, пытаемся удержать тот уровень отношений, который не разрушает любовь.
Новые знания требуются не только детям. Я и сама не прекращаю постигать науку жизни. Учусь слушать и слышать тех, кто рядом. Когда начинаешь понимать и принимать людей такими, как они есть, разочарований становится меньше. С возрастом осознаешь, что семья и друзья — это подлинное богатство. Чтобы его не растерять, нужно прилагать усилия. И если дети, повзрослев, смогут стать умными, порядочными и добрыми, стать самодостаточными личностями, имеющими достойную цель и честные способы её добиться, то это и будет счастье. Но без любви ничего не получится.
Есть хороший фильм с актрисой Роми Шнайдер, который называется «Главное — любить». Наверное, в этом и скрыт основной секрет нашей жизни.
Есть хороший фильм с актрисой Роми Шнайдер, который называется «Главное — любить». Наверное, в этом и скрыт основной секрет нашей жизни.
